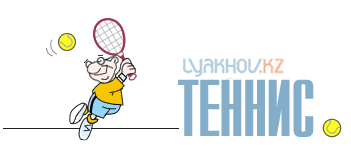|
АЛМАТИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
Но, проходя по его проспектам, улицам, набережным, ловя в видоискатель ежесекундно меняющееся многолюдье, беседуя со знакомыми и незнакомцами, не перестаешь ощущать свое родство с великим городом. Тысячами и тысячами нитей связаны северная столица России и южная столица Казахстана. Это связи на государственном, хозяйственном, коллегиальном, дружеском и семейном уровнях. Сколько наших парней служило на крейсере «Киров»! На том первом, построенном в 1937 году, над которым взял бессменное шефство комсомол Казахстана и который в 43-м в кровопролитном морском сражении вырвался из окруженного фашистами Таллинна и дошел до осажденного Ленинграда. Одна из его орудийных башен установлена за четыре тысячи верст от Балтики в нашем парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Сколько наших земляков полегло на Пулковских и Сенявинских высотах! Сколько эвакуированных ленинградцев приютила тыловая Алма-Ата! А скольких мастеров кино воспитали ленфильмовцы, когда работали у нас вместе с москвичами в ЦОКСе (Центральной объединенной киностудии)! И уж не счесть всех, кто получил образование (да еще какое!) в ленинградских вузах: университете, Академии художеств, консерватории, политехе, технологическом и других кузницах инженерных кадров! Так что нет числа тем, кто может сказать — мой Ленинград, мой Петербург. И пусть не обижаются на нас те, кого мы не смогли упомянуть в «Алматинском Петербурге». А начнем с самого старшего и по возрасту, и по заслугам. Колпаковский Пожалуй, не найти алматинца, которому не знакомо имя Герасима Алексеевича Колпаковского, военного генерал-губернатора Семиреченской области, стараниями и чаяниями коего заштатное воинское поселение Верное превратилось в бурно развивающийся город Верный, ставший впоследствии третьей (после Оренбурга и Кзыл-Орды) столицей Советского Казахстана, красавицей Алма-Атой, долгие годы поражавшей приезжих удивительной продуманностью и четкостью градостроительной планировки. Из поколения в поколение передаются легенды, которые людская молва связывает с его именем. Это перво-наперво таинственные слухи о подземных ходах, тянущихся от Свято-Вознесенского собора к резиденции губернатора и дому архиерея. Затем легенда о серебряном полтиннике, выплачиваемом верненцам за каждое посаженное и выращенное вдоль улицы дерево. И предание о том, что могила генерал-губернатора находится в центральном парке, где когда-то было городское кладбище, снесенное в первые годы советской власти. Я еще хорошо помню несколько уцелевших надгробий, огороженных цепями на невысоких чугунных столбиках. На наклонных могильных камнях с высеченными крестами еще можно было, или мне это мнится, по складам разобрать — «Колпаковский». Появился Герасим Алексеевич в первый раз в наших краях 4 июля 1858 года, когда в чине майора вступил в должность начальника Алатаевского округа и пристава казахов Большой Орды, сменив на этом посту майора М. Д. Премышельского, основателя Верного. В своей депеше Колпаковский тогда отметил: «В Заилийском отряде обстоит все благополучно. Здоровье людей находится в удовлетворительном состоянии. Работы по укреплению Верного продолжаются, по возможности, с успехом». Талантливый организатор и администратор сумел четко наладить механизм всесторонней жизни общества — управления, экономики, судопроизводства, земства, строительства и архитектуры и быстро продвигался по службе. В 1865 году его назначают военным губернатором и командующим войсками Семипалатинской области. А 11 апреля 1867 года укрепление Верное получает статус города, центра Семиреченской области. Уже генерал-майором Колпаковский возвращается в Верный военным губернатором новой области и наказным атаманом только что сформировавшегося Семиреченского казачьего войска. О том, каким был среди казахов авторитет этого человека, до сих пор выдаваемого некоторыми историками за символ царской колониальной политики, можно судить по мнению Чокана Валиханова, написавшего в те дни К. К. Гутковскому: «У нас в степях есть слух, что будто Колпаковский назначается киргизским губернатором… Я сам нисколько не удивлюсь этим слухам и даже готов радоваться, если бы Колпаковского сделали ханом нашим…». Даже уже будучи пять лет генерал-губернатором Степного края, Герасим Алексеевич в 1887 году немедленно выезжает из Омска в разрушенный крупнейшим землетрясением Верный, где руководит оказанием помощи пострадавшим. Читатель вправе спросить, а при чем здесь Петербург? А вот при чем. В конце октября 1889 года Колпаковский становится членом Военного совета и уезжает к невским берегам. Смерть настигает этого даровитого человека 23 апреля 1896 года после тяжелой и продолжительной болезни. Три года назад, на вечере памяти Колпаковского, устроенном неутомимой сохранительницей верненских имен и судеб Людмилой Енисеевой-Варшавской, наш краевед Владимир Проскурин сообщил, что прах Герасима Алексеевича покоится на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Колпаковский был награжден в 1883 году орденом Св. Александра Невского, по статусу ордена имел право на почетное захоронение. Прямых потомков у него не было, и могила со временем пришла в запустение, как большинство надгробий на этом старинном питерском погосте. Но несколько лет назад в кладбищенской ведомости появилась запись — «могила посещается». Оказывается, за ней стала ухаживать алматинская журналистка и историк Ольга Ивановна Ходаковская, перебравшаяся в Питер, в архивное управление лавры. С этой рассудительной и удивительно целеустремленной (до одержимости) женщиной я познакомился лет десять назад, когда она на чистом энтузиазме, без гонорара начинала издавать ежемесячник «Свет православия в Казахстане». Потом, уже за деньги, подряжала фотографировать раскопки Софийского храма в Малой станице и те самые могилы в парке. Вместо себя я предложил для съемок молодого и талантливого Сережу Ходанова, но сам время от времени навещал загороженные от любопытных глаз объекты. Так вот, памятуя о том, что Ольга Ивановна работает в лавре и может показать нам могилу Колпаковского, в один из дней мы и направились туда. Первый же встречный служка подтвердил, что Ольга Ивановна действительно работает в архивном управлении, но время уже было слишком позднее. Летние дни в Петербурге обманчивы, солнце еще высоко-высоко, а, оказывается, идет десятый час. Инок через пару минут вынес номер нужного телефона. На следующий день знакомый голос тихо ойкнул в телефонной трубке. В длиннющем и давно не видавшем ремонта коридоре монастырского строения, за двумя поворотами и железной дверью нашли кабинет архивариуса. Радостная хозяйка усадила нас и забросала вопросами о городских новостях, об общих знакомых. Мы отвечали, задавали свои, рассматривая на стенах чудные литографии российских патриархов и соборов. Поведала о приеме, оказанном ей в Санкт-Петербургской епархии. Вместо пятиминутной аудиенции тридцать третий митрополит Санкт-Петербургский уделил ей более получаса. Дело в том, что митрополит Владимир (в миру Владимир Савич Котляров) родился в Актюбинске, окончил в свое время бухгалтерское отделение Джамбулского статистического техникума, а затем Московскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию. В 1952 году после окончания семинарии начинал свое служение псаломщиком у нас в Алма-Ате, в Никольском кафедральном соборе. Через год там же был рукоположен в сан диакона, а спустя два дня — в сан священника. Так что многих алматинцев отец Владимир исповедал, направлял на путь истинный, отпускал грехи. А ему было о чем вспомнить. Кстати, в высших кругах Русской православной церкви митрополит Владимир является старейшим по хиротонии членом Синода, замещающим на заседаниях патриарха Алексия, и рассматривается как его возможный преемник. Ольга Ивановна провела нас к могиле Колпаковского. Господи, да мимо этой могилы мы в своей жизни проходили раз двадцать — самое первое надгробие справа по центральной аллее! И не обращали внимания, потому что со стороны аллеи высечено никогда не слышанное имя — «Мелания Фоминична Колпаковская». И лишь с обратной — предельно скромно: «Герасим Алексеевич Колпаковский. Скончался 23 апреля 1896 г.». Погребен он был тремя днями позже под залпы шести орудий и звуки военного оркестра лейб-казаков при спущенных боевых знаменах батальона лейб-гвардии Павловского полка. Удивительные сюрпризы иногда подкидывает фортуна. Как бы в аккомпанемент повествованию Ольги Ивановны над кладбищем поплыла траурная музыка, грохнули залпы прощального салюта, а через несколько минут мимо могилы парадным шагом прошествовал взвод солдат с развернутым российским триколором — где-то рядом похоронили высокопоставленного эмчеэсника. Могила Колпаковских на редкость скромна. Над землей приподнят квадрат из блоков красного гранита, в центре небольшая площадка из керамических плиток. На ней возвышается черный надгробный камень с высеченным православным крестом. У изголовья могилы из одного корня выросли два ствола. Они тянутся ввысь, как бы обнимая и ластясь друг к другу. Рядом более помпезные надгробия и родовые склепы. Множество эпитафий и титулов — статский советник, лейб-медик его императорского величества, статс-секретарь и тому подобное. Почему бы не указать, кто был Герасим Алексеевич Колпаковский? При всей его скромности, сродни суворовской, у того тоже на могиле только одно имя, надо, чтобы перербуржцы знали, что в их земле покоится частица казахстанской истории, почетный житель города Верного, устроитель Семиречья, воин, прошедший ратный путь от рядового Модлинского пехотного полка до полного генерала от инфантерии, члена Военного совета России. Такие мемориальные доски нужно установить и на могиле, и на доме на Моховой, 6 — последнем пристанище нашего генерал-губернатора. Подарок библиотеке О том, что мы собираемся в Питер на юбилей, знало если не пол-Алматы, то добрая четверть. Позвонил и Павел Иустинович Мариковский — наш патриарх научного и литературного цехов: «Валерий Дмитриевич, сделайте доброе дело. Занесите в Салтыковскую библиотеку мою книжонку «Во власти инстинктов». Буду премного благодарен». Эта книга с автографом год стояла на мариковской полочке нашей домашней библиотеки, да все недосуг было прочесть. А тут под мерный стук колес я взялся за нее, да так увлекся, что одно место прочитал Ольге вслух. Потом уже весьма заинтересованное купе не отставало, и пришлось читать до самых последних страниц, да еще и возвращаться к началу. Удивительная книга, хотя я возмущался на редкость бездушной и никчемной аннотацией, сухо сообщавшей, что это 60-я книга известного натуралиста, недавно отметившего свое 90-летие. А книга-то чуть ли не о всем мироздании, о законах и таинстве природы, о разумной целесообразности инстинктов и о трагической ошибке природы, наделившей человека разумом, но лишившей его большей части инстинктов, что может привести к гибели всего живого. Это не только опыт натуралиста-энциклопедиста, но и крик души публициста и гражданина. На главе о снежном человеке я расхохотался, вспомнив, как мы чуть было не отправились на охоту за ним. Было это лет десять назад. В газете «Ленинская смена» появилась заметочка о том, что отдыхавшие в Бутаковском санатории трудовых резервов видели на снегу огромные отпечатки человеческих ног. Позвонил Мариковский: — Это действительно снежный человек! По моим наблюдениям, Бутаковское ущелье — его ареал. Организуйте мне человек десять фотографов, я укажу, где спрятаться, и мы его сфотографируем. — Павел Иустинович, он же по ночам ходит. Темнотища. — Но у вас же есть фотовспышки. — Ну да, я вспыхну, а он мне как засветит, костей не соберешь! Центральная библиотека имени Салтыкова-Щедрина — одно из крупнейших книгохранилищ мира. Самый центр — угол Невского и Садовой, через трамвайную линию от Гостиного двора. Рядом два театра: комедии и академический драматический. Супротив входа — сквер, где у подножия многофигурного памятника Екатерине ее ряженая тезка фотографируется со всеми желающими. Книгу Мариковского с трогательной дарственной надписью берут охотно, благодарят, дают расписку. А я веду Ольгу в зал эстампов, самый любимый мой в этом старинном заведении, в котором некогда начальствовал неповоротливо грузный дедушка Крылов. Еще в студенческие годы я часами рассматривал фотоежегодники и монографии о фотографах. Я даже помню, в каком шкафу что хранится. До сих пор храню списки шифров нужных книг, да еще когда-то Сережа Подгорбунский, в годы университетской учебы увлекавшийся фотографией, отдал мне свои списки периодических изданий. При каждом посещении Ленинграда я выбирал время, чтобы заскочить сюда, посмотреть новинки и в который раз перелистать любимые альбомы, вторых экземпляров которых нет даже в московской Ленинке. Например, итальянский «Зеркало Венеры» с лаконичными реминисценциями самого Феллини. На этот раз мы пришли еще с одним гостинцем — с соросовским фотоальбомом о постсоветской Центральной Азии и Казахстане, в котором опубликованы снимки пяти членов нашего фотоклуба «Медео». Подарку были несказанно рады, и мы вместе погрустили о тех временах, когда библиотечная система была отлажена как часы и каждое издательство бесплатно рассылало 80 так называемых «обязательных» экземпляров в книгохранилища огромной страны. Вероника Я стою у двустворчатой двери коммунальной квартиры рядового петербургского дома. По почти вековой традиции вдоль косяка ряд разномастных кнопок. Против одной нужная мне надпись: «Вероника — два звонка». Нажимаю податливую пуговку, жду — нет ответа. Звоню еще раз — прежний результат. За дверью тишина…
Предыстория… Когда-то, почти десять лет назад, в Доме ученых я услыхал чарующие звуки молодых голосов. Пение доносилось откуда-то сверху, словно из-под небес. «Да это студенты нашим ветеранам в Зимнем саду концерт дают». Пение стихло. В узеньком тесном закутке переобувались девчушки в роскошных туалетах. — Это кто тут так пел? — А вы кто такой? — из-под темной копны волос сердито блеснули два изумруда. Я представился, достал ручку. Так впервые в моем блокноте появились имена питомцев Евгении Петровны Осокиной: Вероника Мащенко, Инна Садыкова, Ольга Панова, Денис Брагинский, Игорь Глушков. Великолепная пятерка. Почти все, кроме Дениса, были студентами Алматинского музыкального училища имени Чайковского, которое Брагинский окончил годом раньше. Удивительный педагогический талант Осокиной озарился необыкновенным созвездием голосов. Серебристое, легкое, полетное колоратурное сопрано Вероники. Низкое нежно-страстное, грудное меццо-сопрано Инны. Бархатистое сопрано Ольги. Мощный раскатистый бас Дениса. И переливчатый лирический тенор Игоря. Моя небольшая заметка в «Новом поколении» была, пожалуй, первой публикацией об этой талантливой группе. Потом о них писали все городские и республиканские газеты. Группа не распалась с окончанием училища, а превратилась в своеобразный театр песни и романса, профессиональный по требовательности, тщательности подготовки, растущему мастерству, артистизму, целеустремленности, самоотдаче юных дарований и самодеятельный по чисто домашней организации их выступлений. Начиная от шитья костюмов и подготовки антуража до готовности выступать где угодно, на любых площадках за любое, порой просто символическое вознаграждение. Не я один восхищался и поражался широтой их интересов и разнообразием репертуара. Казахские, русские, немецкие, еврейские, латиноамериканские народные песни, арии из опер и оперетт и целая россыпь романсов. Сольное и особенно дуэтное пение, когда два или три разновысоких сопрано сливаются в волшебно-восхитительном многоголосии. Где бы они ни выступали, я старался попасть на концерт. Иногда опаздывал, но мое мощное ободряющее и поддерживающее «Бра-а-во!» сразу говорило певцам, что я в зале. Камерный, интимный жанр романса тогда приобрел новую жизненную форму. Небольшие залы — Дом ученых, филармония, Дома культуры с живым, натуральным, а не изгаженным сверхдецибелным хрипом, звуком. Скромно-классическое музыкальное сопровождение рояля — концертмейстер Лариса Ковалевская — или аккордеона — Брагинский — создавали необычайно теплую атмосферу задушевности, общности, красоты нетленной певческой классики. Создавалась своя ниша истинно культурной деятельности в дополнение и даже в противовес стадной зомбированности супермассовой эстрады. Увы, никто из чиновников, приближенных к сфере культуры, не осознал этого. Ни в Казгосфилармонии, ни в Казахконцерте тогда не нашлось места для театра песни и романса. Свою роль сыграла и ложно понятая идея приоритета коренной национальности. Евгения Петровна хваталась за голову: «Остается только на Бога надеяться!». И, видимо, Бог услышал. Настоятель католического храма выхлопотал Игорю Глушкову стипендию на обучение в Римской музыкальной академии. Через год его благословил Папа Иоанн Павел II. Это был первый казахстанец, удостоенный высокой аудиенции за свои творческие успехи. Уже должен был года два назад Игорь покинуть академию, но о нем ничего не слышно. С кончиной Осокиной перестали говорить и о театре песни и романса. И хотя все его участники в свое время поступили на искусствоведческое отделение местного филиала Санкт-Петербургского университета культуры, дела не у всех шли в гору. Исчезла Ольга Панова, за ней Вероника Мащенко. Поговаривали, что Вероника поет в каком-то петербургском хоре. Перед отъездом я пытался навести справки о ней у Инны и Дениса. Но никто ничего не знал — ни адреса, ни телефона. Поэтому в перерывах между празднично-юбилейными мероприятиями я по справочнику стал обзванивать все организации, так или иначе связанные с музыкой и пением. Начал с Малого театра, так как и жена, и дочь утверждали, что в 1999 году были в нем и различали голос Вероники. И хотя сидели на самом верху, Ольга будто бы даже видела ее на сцене. По телефону администратор ответил, что такая фамилия ему не знакома, но лучше позвонить на вахту, которая всех знает. Вахта ответила отрицательно. Тот же результат был и в остальных местах. А мы-то надеялись узнать, где работает Вероника, прийти на спектакль и рявкнуть «Браво!» так, чтобы она сразу узнала, что в зале ее алматинские поклонники. Кто-то надоумил нас обратиться в адресный стол на Литейном проспекте, 6. Не очень-то надеясь на успех, я сунул в окошечко бланк запроса с весьма скудными данными: Вероника Мащенко, год рождения ориентировочно такой-то, год прибытия в Ленинград из Алматы такой-то, профессия — певица. «Подождите!». И через несколько минут бланк вернули: Владимировна, 15-я линия, 74, квартира 60. На следующий день было воскресенье. Мой свояк Виктор Селин, у которого в три часа должны были отмечать день рождения, отговаривал меня: «Смотри, впустую съездишь, все нормальные питерцы по воскресеньям на дачах». У Ольги были свои дела, и я поехал на Васильевский остров с твердым обещанием вернуться вовремя. И вот я стою перед коммунальной дверью и в третий раз нажимаю кнопку с надписью «Вероника — 2 звонка». Нет ответа. Стало быть, прав Виктор. Вешаю на перила кофр и сумку с коллекцией фотографий, достаю ручку с бумагой, надеваю очки, начинаю сочинять записку. Через несколько минут раздается какой-то шорох и голос: «Кто там?». — Коренчук из Алматы. В ответ радостный вопль. Дверь распахивается, и мне на шею бросается очаровательное создание в домашнем халатике, да так, что очки летят в одну сторону, а авторучка в другую. Сумбурные обоюдные вопросы: что да как, как меня нашли, как там наши, где учатся, где работают? Отвечаю: Инна и Денис в оперном стажерами-вокалистами. Об остальных ни слуху ни духу. Сама Вероника работает в Малом (!) театре. Вот вам и администраторы, которые так знают свои кадры. Раскладываю свою коллекцию фотографий, которую Ольга повезет дальше в Таллинн, там есть договоренность о нашей выставке. Увидев фотографию Виталия Федоровича Билькова, которого я снял в его рабочей келье, Вероника вновь повисает у меня на шее — из-за спины Билькова выглядывает вся осокинская группа. Когда-то и Бильков не пропускал ни одного концерта и сделал уйму фотографий. Кстати, о фотографиях. Театральный фотограф как-то сказал Веронике, что нужно ее сфотографировать для газеты. Та заметила, что у нее много своих, алматинских. Фотограф что-то пробурчал насчет провинциальных фотографов, но, увидев снимки Билькова и Елагина, пошел на попятную: пожалуй, я лучше и не сниму. Через день Вероника позвонила, сообщила, что на нашу долю взяла контрамарки на «Кармен». Звонко серебристый голос ее действительно можно различить даже в хоре. В антракте мы побывали за кулисами, сделали вслепую пару кадров на неосвещенной сцене, потом в гримерке. После спектакля, пока не стали закрываться двери в метро, бродили по бело-ночному Питеру. Сейчас я думаю, хорошо, если судьба Вероники сложится, как у ее предшественницы Риммы Вальтер, тоже воспитанницы Осокиной. В свое время она поступила в Ленинградскую консерваторию и на старших курсах уже выходила на сцену Мариинки. В Алма-Ату приезжала с гастролями. Потом пела на новосибирской сцене, но сейчас вернулась в южную столицу в наш оперный. Есть все-таки житейская мудрость в пословице: где родился, там и сгодился. Помню тех, кто меня спас В самом начале Невского, по нечетной стороне, на одной из колонн неприметного темно-серого здания невзрачная трафаретная надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Рядом небольшая полочка, на ней всегда живые цветы. Кто-то в праздничной суете проскакивает мимо, а кого-то она бросает в дрожь, заставляет замедлить шаг. Этой надписи уже более полувека, и в дни юбилейных торжеств и карнавального шествия она, пожалуй, одна напоминает о жесточайших девятистах днях блокады, безвременно унесших жизни более миллиона ленинградцев. В Алматы по последней преддевятомайской перекличке насчитали только 157 жителей блокадного Ленинграда. Десять лет назад их было около тысячи. С одним из них — Василием Марковичем Зикеевым — я хорошо знаком, работали вместе в ОКБ завода имени Кирова. Одно время он был у нас партгруппоргом, весьма достойно исполнял эту обязанность: не лукавил, не играл в какие-то цинично-показушные игры, хотя по природной рассудительности на рожон и на баррикады особо не лез. Ему было 14 лет, когда фашисты 8 сентября взяли крепость Шлиссельбург у истока Невы на Ладожском озере. Так Ленинград был отрезан от Большой земли, началась блокада. «Я тогда учился в техникуме при заводе «Светлана», — рассказывает Василий Маркович. — Всегда был худеньким, а тут, несмотря на продуктовую карточку служащего, совсем отощал. Отец моего друга Славки Василий Иванович Терехов посоветовал нам поступить в артиллерийскую спецшколу. Были такие, вроде суворовских училищ. Посмотрел на меня директор Сабуров — одна кожа да кости, пожалел и зачислил. Это был шанс, который позволил мне выжить. В феврале 1942 года поступило распоряжение эвакуировать школу. Нам сказали, что сбор у Финляндского вокзала. Я тогда и не знал, где он, да и с моими силенками все равно бы не дошел. Доковылял до школы, там грузовик, загруженный сухим пайком. Попробовал забраться в кузов, не могу. Вскарабкался на подножку, потом на крыло, на капот, уже полез на крышу кабины, тут появился водитель. Как гаркнул: «Ты куда!» — я так и соскользнул обратным ходом на землю. На мое счастье появился Славка с отцом. Василий Иванович и запихнул нас в кузов. Поездом довезли нас до берега Ладоги, разместили в школе-интернате, дали по ложке гематогена. Школа на самом берегу, на ветру, в коридорах снег. В одной комнате нашлась печка, завесили одеялами окна, сломали забор, натопили. Лежали вповалку, да еще и не все вместились. Глубокой ночью пришла машина. В открытый кузов забрались ребята, что могли сами двигаться. Укутали их одеялами, сверху навалили матрацы, чтоб не замерзли. Через какое-то время еще машина. Шофер долго выкликал: «Ручкин, Ручкин!». Никто не отзывался, и будто кто меня подтолкнул назваться. Дядька почти на руках отнес меня в машину, это оказался старенький автобус. Перетаскал остальных, поехали. Где-то застряли. Ничего не видать, огней зажигать нельзя. Только и слышен был рев двигателя. Потом заурчал другой мотор, нас вытащили. Станция Жихарево — Большая земля. Долго не кормили. В здании, где была столовая, в соседних комнатах были содраны полы. Между балок пластом лежали ребята, которых привезли раньше. Некоторые совсем обессилели, приподнимут голову, посмотрят туманным взглядом и опять уронят. Загружали в теплушки, как мешки, скользом по наклонной доске. Проехали Волховстрой, ребята, что у оконца, удивленно кричат: «Смотрите, собаки!». В Питере к тому времени всех собак съели. В Костроме я уже пластом лежал в изоляторе. Было полное безразличие. Приехал какой-то мужичок, сгреб меня в розвальни — и в больницу. Огромное солнечное отделение. Ванна. Я как скелет, одни мослы. Бабулька уговаривала выпить пунш — чай со спиртом. Трижды мне давали свою кровь шеф-повар дядя Василий, сестра-хозяйка Фаина Львовна, третьего я не помню. Через десять дней смог подниматься, а через пятьдесят вернулся в артиллерийскую школу. Потом через всю страну в Бийск. Окончил школу в 1944 году, направили курсантом в Ленинградское училище в Белорецк. Там приняли присягу, осенью выкопали картошку и возвратились в Ленинград. Здесь и узнал, что отец умер в 1942 году, лежит на Пискаревском кладбище. Я знаю, в какой могиле. Училище наше — это бывшая школа прапорщиков, которую заканчивал Лермонтов, — находилась между улиц Каляева и Воинова, поблизости от нынешней станции метро Чернышевского. Окончить ее не удалось, на рубке леса в 1945 году простудился и снова попал в госпиталь. А тут и войне конец. Поступил в кораблестроительный институт на машиностроительный факультет. Но, тем не менее, направление получил в Алма-Ату на 175-й завод. Да что обо мне говорить, я ведь ни дня не воевал. Ты лучше напиши о нашем завклубом Бирюкове. — Николае Ивановиче? — Да, он же под Ленинградом, можно сказать, ногу оставил. И вот я звоню Николаю Ивановичу и узнаю судьбу еще одного рядового из, по сути, так и оставшейся безымянной, миллионной солдатской армии защитников города на Неве. Родился Бирюков на хуторе Красный в Сталинградской области. Семью перед войной репрессировали, попали за Караганду в третий совхоз в районе нынешнего Темиртау. Отсюда в 1942 году, когда 8 июня стукнуло 18 лет, был призван во флот. Переправили через Старую Ладогу в Токсово в пулеметную школу. Четыре месяца изучали «максим» и военные премудрости пехотного боя, которые впервые пришлось применить поздней осенью при обороне кирпичного завода в Колпино. Потом были затяжные, изнуряющие бои за Синявинские высоты и промозглые Синявинские болота. Четыре месяца провел в госпитале: с простреленными шеей и ухом. Вышел в феврале, в самые морозы, да и подмерз. Снова оказался в госпитале, он располагался в здании Московского вокзала. Здесь и оставил пальцы обеих ног и полступни. Эвакуировали в Барнаул, потом в Караганду. Подлечился, женился. Судьбе угодно было направить в шахтерскую столицу на гастроли Театр оперы и балета имени Абая. Главный хормейстер Борис Васильевич Лебедев разыскивал по стране таланты для Алматинского музыкального училища. Бирюков приглянулся ему, даже первый месяц жил на квартире у педагога, пока не получил место в общежитии. На последнем курсе совмещал учебу с работой в клубе завода, да так и прикипел к нему на всю жизнь. Даже недавно вдвоем с Василием Марковичем сочинили марш ветеранов-кировцев. Фамилия обязывает — Ва-а-лерий Дми-и-триевич, — доносится из трубки милое придыхательное растягивание гласных Тамары Мазепы. — За-а-втра могу сводить вас в Русский музей. Там великолепная выставка «На-а-ши в Па-а-риже». С Тамарой я знаком бог знает сколько времени. В 1980 году она пришла стройненькой девчушкой в издательство «Онер» сразу после окончания Алма-атинского художественного училища. Я даже был ее наставником, учил работе на сенситометре при заковыристой проверке слайдов на соответствие весьма заумной инструкции ВНИИ Полиграфпрома. Меня сразу заинтриговала ее звучная фамилия. В 9 классе нам преподавал физику однофамилец Мазепа, с его сыном Валерой мы учились в корабелке. Пять лет жизни в одной комнате! В конце концов выяснилось, что это хоть и дальняя, но родня. Мир тесен! Вскоре Тамара родила крохотную, всего в два килограмма, дочурку. Наша редактор Светлана Пенькова навестила ее в роддоме и с ужасом рассказывала о тамошних порядках: Тамара до сих пор вспоминает, как после моего редакционного звонка вокруг нее все засуетились, забегали, окружили необыкновенным вниманием и выходили дочку. И сейчас, представляя вымахавшую выше матери «кроху» Дашу, безапелляционно заявляет нам: — Мо-о-жете считать, что это ва-а-а-ша вторая дочка! В 1982 году Тамара с мужем Сашей, тоже художником, переехала в Ленинград. Редкая по тем временам специализация технолога по слайдам позволила быстро устроиться в издательство «Аврора». Сейчас Тамара — свободный художник. Под крышей старинного шестиэтажного дома ее мастерская. Из окон открывается живописный вид на противоположную мансарду с разбитыми стеклами, заткнутыми тряпьем, и на часть Люблинского переулка, простреливаемого косыми закатными лучами, фантастическими красками лепящими объемы и фактуру фасадов. Забот невпроворот. Воспитывает в дочери стойкость и целеустремленность — фамилию надо оправдывать. Подрабатывает где только можно: преподает, рисует заказные портреты, проводит экскурсии в музее. Время от времени по настроению в час-два набрасывает пастельно декоративные, на мой взгляд, но очень эффектные листы. В Петербургском отделении Союза художников признана ведущей абстракционисткой. Друзья-художники в восторге, хотя каждый видит в этих пятнах и линиях что-то свое. На мои скептические замечания сыплет аргументами, приводя в пример классиков, и время от времени роется в книжных полках, чтобы выудить очередной том в защиту беспредметной живописи. При этом не устает задавать вопросы о своих алматинских друзьях. И, на удивление, оказывается, что я их отлично знаю. И Сашу Осипова, с которым Тамара училась в училище, и его жену Рашиду, которую я лет тридцать назад фотографировал на первомайской демонстрации. Да так удачно, что эти снимки проходили на международных фотовыставках. С ее отцом Эдиком Шаяхметовым мы трудились на заводе, а с матерью Сталиной моя жена всю жизнь проработала вместе на телецентре. Знаю и Сашиного друга и коллегу Шамиля Гулиева. И Рустема Хальфина тоже знаю. И… даже писателя Юру Егорова, который уже давно прижился в Ленинграде и издал здесь несколько своих книг, тоже знаю. Когда-то вместе посещали сценарные курсы Льва Игнатьевича Варшавского. Хотя чего удивляться: мы как прутья в ивовой корзинке переплетены одной судьбой. Алматинской и ленинградской. Соловьев, который не Седой Удивительны метаморфозы перехода на рыночную экономику. Кто-нибудь посчитал, во сколько раз сократилась почтовая переписка? На мой взгляд, раз в десять. И это не считая замены писем телефонными звонками и Интернетом. Даже сократилось в несколько раз число почтовых отделений. Но во сколько раз, или точнее десятков раз, возросли почтовые расходы после недавнего, поистине грабительского увеличения чуть ли не вдвое тарифов. Поэтому я не только не отказывал никому, но задолго до поездки обзванивал друзей: готовьте, что надо передать. Ну а уж словесные пожелания — без ограничения. Среди наказов, которыми озадачил меня Владислав Владимиров, был и привет его свояку и тезке Соловьеву. Слава даже пошутил: — Он тоже композитор, но не Седой. И вот телефонный привет от Владислава Владимирова Владиславу Соловьеву после передачи новостей оборачивается очередным приглашением к воскресному обеду 25 мая. Через день выясняется, что на эту дату приходится карнавал-парад. Соловьев не очень огорчается и подтверждает приглашение на следующее воскресенье. Его адрес — проспект Стачек, 107 сразу навевает родные ассоциации. В самом начале проспекта у метро «Автово» прошли пять лет моей студенческой общежитейской молодости. Но сейчас надо выходить двумя станциями позже, идти еще минут двадцать по новостройкам и напротив нового здания кораблестроительного института нырять в арку краснокирпичного дома, во дворе которого среди уютной тенистой рощи стоят крупноблочные девятиэтажки. На шестом этаже дверь открывает хозяин, дипломатично предупреждая, что жена на даче и обед будет по-холостяцки. Не знаю, что было бы, если бы стол накрывала женская рука, но и здесь все было отменно вкусно. Угловая квартира с огромными окнами просто светилась, несмотря на обилие книжных шкафов, заполняющих все стены. Связки упакованных пачек громоздились в углу гостиной. Белозубая улыбка пианино и творческий хаос с обилием мелких, но выразительных многоговорящих деталей так и просились в объектив камеры. Владислав Георгиевич — наш земляк, родился в Алма-Ате. Наверняка наши пути где-то пересекались. Он жил на Чайковского и Артиллерийской (ныне ул. Курмангазы), учился в 25-й школе. А я бегал туда, когда в ней был городской Дом пионеров. Да и жил поблизости, на Виноградова и Иссык-Кульской (позже ул. Мира, а теперь ул. Желтоксан), а возле дома Соловьева находилась поликлиника КГБ, в которой мы каждое лето проходили медкомиссию перед пионерлагерем. Так что картины былого так и всплывали перед нашими глазами, совершенно неведомые Ольге, учившейся в 120-й школе, построенной в семидесятых как раз на перекрестке нашей общей памяти. Соловьев с детства увлекался музыкой, вместе со своим одноклассником Юрой Гусевым, ныне первой виолончелью нашего Государственного оркестра, ходил в музыкальную школу. Был, как говорили в те дворовые времена, пай-мальчиком. Окончил музыкальную школу с отличием, что давало право идти в консерваторию, но Владислава потянуло в ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт. Здесь он не только учился, но и с упоением играл в самодеятельном оркестре. После окончания института занимался акустикой кораблей и заочно учился в консерватории. Вскоре к диплому инженера электротехника добавился диплом композитора. Сейчас в достаточно грустные и для пенсионеров-россиян годы Владислав Георгиевич не теряет ни бодрости духа, ни творческого пыла и энтузиазма. Как наш Анатолий Витальевич Кельберг, он ведет концерты, рассказывая о творчестве своих коллег, организовал собственное издательство музыкальной литературы. Готовит сборники для музыкальных школ и училищ. Упакованная продукция занимает добрый угол комнаты. Самая свежая — «Вальсы русских и советских композиторов». В оглавлении мелькнула фамилия Грибоедова. «Сыграйте. И что-нибудь свое». После довольно знакомой мелодии звучит нечто усложненное, словно в трех-четвертную размеренность вклинивается свободная сонатная форма. — Каждому времени соответствует своя музыка, — замечая недоумение на наших лицах, объясняет автор. — Сейчас время сложной, серьезной музыки. Мне кажется, что он слегка лукавит: ведь сочинить мелодию, которую с лету можно напевать и насвистывать любому, как мелодии Штрауса, ох как трудно, и, может быть, не всякому дано. Гостеприимный и хлебосольный хозяин, собрав пакет газетных вырезок для Владимирова и присовокупив к ним репродукцию приглянувшейся мне гравюры, провожает нас до метро. Оранжево-золотистые лучи закатного солнца скользят по-над землей, удлиняя многократно тени и играя в маковках трех церквушек, видных на противоположной стороне проспекта. К одной, еще незаконченной строительством, Соловьев нас подводит, обещая показать святой родничок, возле которого и заложили церквушку, непропорционально громадная голубая маковка которой сразу ассоциировалась у меня с иллюстрациями к джаниродариевскому Чиполлино. На ее фоне мы фотографируемся, установив фотоаппарат на штабель кирпичей, чем вызываем усиленный интерес сторожа, выросшего как из-под земли, чтобы выяснить, кто это крутится возле строительных материалов. Салсал ага — Валера, тебя не затруднит передать в Питер небольшую посылочку? Дядя у меня там, — встретил меня на лестнице сосед по дому Салават Азербаев, бывший дипломат, а ныне научный сотрудник, общественный деятель шахматной федерации Казахстана. — Кстати, дядя тоже когда-то закончил кораблестроительный институт, так что вам и поговорить будет о чем. — Конечно, только не очень громоздкую. И пораньше, чтобы мы упаковать успели. Несмотря на предупреждение, Салават заглянул, когда мы уже сидели на чемоданах, и притащил огромную рахатовскую коробку конфет и фирменную упаковку казахстанского коньяка. — Не проще деньгами передать? — Нет, что ты. Он все деньги на книги изводит, питается как попало. А тут хоть гарантия есть, что сам закусит. Вот номер телефона, а я ему позвоню, он может даже встретить вас. — Этого еще не хватало, пожилого человека по вокзалам таскать! Телефон Салсала Калибековича Турганбаева несколько дней не отвечал. Потом как-то в трубке раздался холодный женский голос: «Сейчас приглашу!». Как выяснилось позже, Салсал Калибекович занимал комнату в коммунальной квартире, видимо, не с очень дружелюбными соседями. А посему не мог пригласить в гости. И вообще встретиться предлагал только на нейтральной полосе. Договорились, что на следующий день будет ждать у станции метро «Дыбенко». Еще издали по словесному описанию я признал опирающуюся на палочку одинокую фигуру с сумкой через плечо. Как-никак, а человеку ровно семьдесят. Родился в Алма-Ате, в Ленинграде в 1955 году окончил машиностроительный факультет кораблестроительного института. Это хоть и наша альма-матер, но весьма далекая и по времени, и по сущности для общих воспоминаний. По направлению попал на Украину, в Илковскую мореходную школу. В 1959 году вернулся в Алма-Ату, где целое десятилетие преподавал сначала в индустриальном техникуме, потом в филиале Джамбулского технологического института. Здесь, в Алма-Ате, у него родились дочери Мира и Саида. Но Салсала потянуло снова в Ленинград, в аспирантуру к профессору Гастеву, где он занялся вантовыми системами мостов, куполов стадионов, крытых рынков, залов. Благо, уже имел достаточно авторских свидетельств на изобретения. В советское время регулярно каждый год, а иногда и в два навещал родной город. С распадом державы, дефолтом и прочими бедами, с завидной постоянностью обрушивающимися на головы пенсионеров, это стало неисполнимой мечтой и фантастикой. С этого и началось наше знакомство. Общий язык с Салсалом Калибековичем нашли чуть позже. Оказывается, он еще со школьных времен пишет стихи, обожает Пушкина, готов говорить о нем часами. Беседа пошла как по маслу. О времени напоминало лишь солнце, которое неумолимо поднималось на небосклоне, заставляя нас время от времени передвигаться в тень. Старушка-пенсионерка, торговавшая рядом нарциссами, удивленно поглядывала в сторону моего собеседника, вполголоса, но с необыкновенным душевным проникновением читающего звонкие строфы. — А вот еще одно, — заметив мой брошенный на уличные часы взгляд, заторопился Салсал ага. — Последнее. Посвященное жене Наталье Николаевне, очень личностное, но его опубликовали в советское время только один раз в юбилейном десятитомнике 1937 года. Его почти никто не знает. Я насторожился, но стихи оказались настолько знакомыми, что не выдержал и перебил: — Ага, как это никто не знает? Я его встретил в книге «Рисунки Пушкина». Правда, в первом издании. Видимо, цензоры не досмотрели. Но во втором, «стереотипном», их уже не было. Свои стихи Турганбаев за редким исключением не публиковал, хотя те, что я слышал, этого весьма заслуживают. Уже по приезде узнал, что Салават договорился об этом с одним из издательств. Нина Афанасьевна Не одно, а, пожалуй, целых десять поколений алматинской детворы прошли через изостудию Нины Афанасьевны Луферчик в городском Доме пионеров. Пришла она в него совсем юной девушкой в 1938 году. Тогда Дом пионеров располагался в неказистом двухэтажном строении по улице Фурманова между Комсомольской и Кирова (ныне ул. Толе би и Богенбай батыра) выше Министерства геологии. Рядом или даже в том же здании было общежитие женского педагогического института. Это мне так говорили, меня в то время еще на свете не было. А вот когда Дом пионеров был в 25-й школе, я уже хорошо помню. В студии всегда царила божественная тишина, необыкновеннейшая чистота и уют. Врываясь из коридора, где можно было хоть на голове ходить, все благоговейно замирали, переходили на шепот. Отлично помню и Дом пионеров на углу Комсомольской и Карла Маркса (ныне ул. Кунаева). Перед этим здесь была школа милиции, и после тесноты 25-й школы все казалось необыкновенной роскошью. Двухэтажный корпус, клуб с настоящей сценой и вместительным зрительным залом, рядом одноэтажное строение станции юных техников и угловой полутораэтажный купеческий особняк, в котором наверху была квартира директрисы Клавдии Ефремовны, а в полуподвале располагалась наша судомодельная лаборатория. В середине шестидесятых для Дома пионеров построили специальное здание на углу улиц Калинина и Сейфуллина. Здесь и отмечали 50-летие трудовой деятельности Нины Афанасьевны. Это были еще советские времена, и гости съезжались со всего Союза. У многих народных и заслуженных художников нашей, тогда необъятной родины Нина Афанасьевна была первой учительницей на пути в изобразительное искусство. Бородатые подвижники живописи целовали ей руки, признавались в вечной любви и признательности. И было за что. Многих она вводила в мир искусства. Некоторых одаренных и подающих надежды мальчишек и девчонок месяцами и годами привечала в своей небольшой квартире, где и своим-то повернуться было с трудом. Я это отлично знаю, потому что Нина Афанасьевна — моя тетя, жена маминого брата. Когда об этом узнавали ее воспитанники, с которыми сотрудничал в издательстве «Онер» или с которыми сталкивала журналистская служба, реакция была однозначной: «Ну, ты нам теперь как родня!». Благожелательность и слава моей тети до сих пор распространяется и на меня. В 1993 году мы провожали Нину Афанасьевну с дочерью Ларисой и зятем Виктором Селиным, дипломированными алматинскими архитекторами, в Ленинград, где уже укоренился ее внук Андрей, окончивший архитектурно-строительный институт. Мне так ни разу не довелось навестить ее на ленинградской квартире. Теперь, приезжая в Питер, мы останавливаемся не у однокашников, а у родни. Каждый раз приходим к ее могиле. От всех алматинцев кланяемся. Светлая память. Первый Учитель! Киномаэстро Еще один ленинградец алматинского происхождения — Сергей Некрасов. Окончил у нас физкультурный институт. Увлекался фотографией и кино. В конце семидесятых стал членом фотоклуба «Медео». На шуточном снимке тех лет он весь увешан нашими фотоаппаратами. Мечтал поступить во ВГИК и стать кинооператором. На творческий конкурс в 1980 году отослал в Москву свои фотографии и рекомендательное письмо от клуба. Позже рассказывал, что мастер, набиравший в тот год учебную группу, обратил внимание именно на рекомендацию. Фотографиями во ВГИКе никого не удивишь, тем более что могут прислать и не свои. А тут прочитал, пересмотрел снимки, убедился, что очень точно подмечены творческие задатки абитуриента, и взял под контроль. На втором курсе Сергею уже дали в руки кинокамеру. А дипломную работу он снимал на «Ленфильме». Да так здесь приглянулся, что и направление ему выхлопотали в город на Неве. И вот с 1985 года живет в Питере, снимает художественные фильмы. Счет уже к двум десяткам подбирается. Наиболее известный — «Окно в Париж», хотя сам автор сетует: «Вот снимешь дурацкую картину, она у всех на слуху, а фильмы с серьезной операторской работой, за которые на фестивалях получал награды и премии, остаются неизвестными». Жена Сережи — Катя — художник, обладательница премии «Ника», весьма престижной в мире кино. Когда фотографировались на память, я поставил золотую статуэтку в центр стола, но Сережа настоял: пусть будет возле Кати, а я себе персональную заслужу. К тому есть все основания. Уже чуть ли не десятилетие снимает, если так можно сказать о суперзатянувшемся проекте, с режиссером Германом фильм по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом». Катя в этом фильме художник. Как-то водили они нас на киностудию, показывали бережно хранящиеся костюмы средних веков. Ольга чуть ли не все женские примерила, наснимали вдоволь. Жаль, что нельзя показать до выхода фильма. С фотографией Сережа не расстается. Хвастает изумительной аппаратурой, набором оптики, фильтров и спецнасадок. Занимается рекламной съемкой. Его библиотеке с самыми последними фотографическими фолиантами можно только позавидовать. Мы даже лишний раз напрашивались в гости, чтобы все просмотреть. В ближайшем будущем обещает прислать свою персональную выставку. Санкт-Петербург — Алматы, май — август 2003 г.
© Валерий КОРЕНЧУК
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||